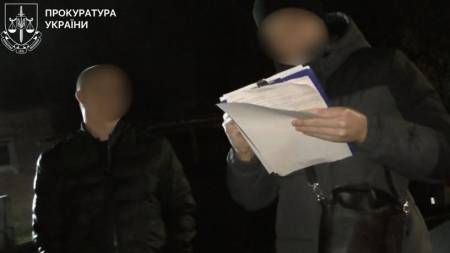Чтоб взять винтовку, был годами мал,
Но тоже рос голодный и усталый,
И тоже груз на плечи поднимал.
Своим крылом безжалостное время
Махало так, что мой мутился взгляд.
Недетских слез и всех лишений бремя
Я тоже нёс, как будто был солдат!
Для нас, жителей многих сел и деревень правобережья Дона (территория Воронежской области России), это случилось в чересчур жарком июле 1942 года, когда всю нашу семью: бабушку, маму, братьев, как и многих других несчастных, и не по своей воле, а под конвоем очень злобных мадьярских (венгерских) солдат выгнали из родных хат. Первоначально всех нас задержали тоже в большом селе Мастюгино всего-то в неполном десятке километров от нашего Сторожевого, мирно и привольно раскинувшегося в садах на прибрежном взгорье. То, что началось уже с первых шагов эвакуации, немыслимо передать, не оказавшись в том далеком аду. Достаточно вспомнить одно из первых событий, когда мы с Алексеем, средним братом двенадцати лет (я у него на плечах), отстали, затерялись в бурлящем водовороте беженцев. Перепуганные насмерть, зарёванные, мы нагнали страху своим родным. Какой кошмарной оказалась ночь в лагере, на полпути к Мастюгино, с неутихающими рыданиями взрослых, у которых накануне были замучены, уничтожены за «связь» с партизанами деды, отцы, братья (а дело было так: когда Сторожевое оставили наши войска, появилась немецкая разведка. Объехав днём все улицы на мотоциклах, неспешно поев, фрицы уехали. На рассвете следующего дня длинная колонна автомашин с вражескими солдатами начала втягиваться в село. Вот тут-то ее и «проутюжили» несколько раз три «тридцатьчетверки», замаскированные нашими в садах и не обнаруженные разведкой. Успешно сделав свое дело, танки невредимыми скрылись в лесу. За эту смелую вылазку немцы жестоко расправились с оставшимися мужчинами — теми, кому было за пятьдесят, кто был ранен под непокорившейся Москвой и долечивался... Нашего пожилого соседа, например, только за то, что он от природы был черный, как смоль, фашисты с криками: «Юде! Юде!» выволокли из землянки и расстреляли. Добиваясь признания от других мужчин, возможно, и в мыслях не допускавших сопротивления чужеземцам, фашисты вырезали пятиуголки на их спинах, сдирали кожу с живых. И, не добившись ничего, — убивали на месте). Или когда наши солдаты, измученные, голодные, с почерневшими лицами, группами и поодиночке выходившие на лагерь эвакуированных, торопливо выспрашивали, как выйти из окружения, как отыскать дорогу за спасительный Дон. То было темной ночью, а уже утром, как в первый день эвакуации, мы попали под снаряды своей артиллерии, бьющей из-за Дона по скоплению людей; в полдень на нас посыпались бомбы опять-таки с нашего самолета. При этом постоянное ужасное зрелище представляли обочины шоссейной дороги, по которой мы продвигались черепашьим ходом: горы вздувшихся трупов лошадей и людей, искореженная техника и частый шелест раздвигаемой высокой ржи, стоны и мольба раненых, просто обессиливших красноармейцев о глотке воды, сухарике. Это при том, что совсем рядом неистовствовали конвоиры. Потом была хата, чужая, не своя, в которую все наше семейство взяли сердобольные мастюжане. Вокруг вовсю кипела разноязыкая военная жизнь. Кого только не было на улицах села: немцев и воевавших на их стороне венгров, итальянцев, чехословаков, финнов, австрийцев; были пленные красноармейцы, отдельные команды из пленных евреев, как потом говорили, для особо трудных земляных работ и выдалбливания скрытных глубоких щелей и дотов в меловых отложениях прибрежных гор.
В соседнем саду расположилась разведрота с большими машинами-фургонами в камуфляже, с многочисленными разноцветными проводами, антеннами на земле, на деревьях. Туда нечаянно, безоглядно забежала семилетняя Наташа. Немец что-то пробурчал овчарке, и та, сбив девочку с ног, отодрала зубами у нее ягодицу… Но это все будет потом, чуть позже. А пока иные картины проплывали перед моими глазами: орудия, военные повозки, запряженные короткохвостыми битюгами, частые колонны грузовых машин с солдатами. Мы же, от мала до велика, никак не могли привыкнуть к сковывающему, парализующему страху; все жили в каком-то томительном ожидании: вот придут наши и мы вернемся домой, пусть даже на пожарище. Покоя не было ни днем, ни ночью. Но особенно страшно было ночью, когда так видно было зарево над далеким Воронежем и пламя догорающих хат такого близкого Сторожевого. Случалось, что небо начинало полыхать от огненных смерчей «катюш», бьющих с опушки сторожевского леса (недалеко от села Селявное) по спрятавшейся в оврагах венгерской коннице. Все вместе мы начинали втягиваться в оккупационный порядок: то было нельзя, то — не можно, а требовалось убирать пшеницу и рожь (хоть и под обстрелом) для нужд германской армии. Надо было посещать церковь, носить на шее крестики (которые, к слову, мой пятнадцатилетний брат Василий начал искусно вытачивать из немецких монет). Приказы взрослым от немцев передавал староста, назначенный ими еще в Сторожевом (забегая вперед, скажу, что односельчанин оказался не только порядочным человеком, но и спасителем для многих гражданских и военных лиц, так что наши солдаты, вернувшись зимой, его не расстреляли).
Но мне, пятилетнему ребенку, более всего врезалось в память то, как каждое утро (почему не вечером?) перед хатой возникал жандарм. Этот мадьяр был с потешным султаном из ярких петушиных перьев на голове. Всякий раз его встречало наше семейство во главе с бабушкой (моя молодая мама, Анна Федоровна, пряталась) у порога. Жандарм выкатывал глазищи и, тыча жичиной (длинная хворостина, палка), орал на братьев: «Дярем, дярем!» Быстрей, быстро — значит. Василия и Алексея, как и десяток других мальчиков, этот представитель нового порядка выгонял к колхозной конюшне на ежеутреннее мытье ног в длинных деревянных корытах. Факт этот остался для меня до сих пор диким и не объяснимым: какому умнику из новых «хозяев» пришла в голову нелепая затея таким образом окультуривать босоногих голодных мальчишек как эвакуированных, так и местных. Так вот, под эту идиотскую операцию я не подпадал: годами был мал. К тому же меня мучила малярия. Однако не взирая на озноб и слабость, я устраивался на утреннем солнышке у порога и почему-то страшно завидовал братьям. Мне было видно, как жандарм подгонял мальчиков к лошадиным корытам, установленным, заметьте обязательно!, с тыльной, глухой стороны конюшни. Ребята как по команде задирали вверх штанины, медленно опускали растрескавшиеся от цыпок и кровоточащие ступни в воду и тут же многие из них выдергивали ноги из воды, не выдержав пронизывающей боли и ускользая от свистящей хворостины жандарма. Боль оказывалась сильнее страха. Сама культурная процедура сводилась на нет: как грязные, так и чистые ноги ребят вновь погружались по щиколотку в придорожную пыль. Но мероприятие скоро заканчивалось, и жандарм гортанным голосом отдавал настоящую команду, после которой ребятишек, как ветром сдувало. До следующего утра...
На другой же стороне конюшни, парадной, скажем так, уже во всю шла иная культурная программа. О такой вы тоже ни в книгах не читали, ни в кино не видели. Здесь придется вам, дорогие читатели, просто-таки поднапрячь свое воображение. Так вот, донельзя аккуратные и экономные немцы, видимо, решили, как казалось многим, что строить летом общественные туалеты слишком накладно, а потому приказали пленным достаточно стесать сверху толстые бревна коновязей (для устойчивого сидения на корточках), приспособив их, таким образом, под своеобразный туалет для расквартированных неподалеку солдат и для всех нуждающихся с проходящей рядом центральной дороги. Туалет оказался не только оригинальным, но и шибко вместительным. Это вам не тесная дощатая будка на два очка, которую смастерил Федот Евграфыч для русских зенитчиц. Тут была роскошь, благодать, никакого неудобства, с охраной. К тому же испражнения пленные регулярно засыпали землей. Впрочем, и это не самое главное. Вы бы посмотрели, какими громоздкими курами усаживалась солдатня на параллельно расположенные насести: в два ряда, едва ли не касаясь друг друга головами. Голыми задами одна шеренга нацеливалась в сторону конюшни, другая — прямёхонько на шумный большак. То ли походная пища, то ли награбленная чужая еда, а возможно, просто желание солдат посачковать, были причиной того, что эта процедура, в отличие от той, что проходила за конюшней, затягивалась надолго. Немцы, а случалось, что и они взбирались на верхотуру, тыкались носами в газеты, вертлявые итальяшки наигрывали бесконечные веселые мелодии на губных гармошках, только угрюмые мадьяры да свирепые финны насторожено вертели головами... В свои пять лет я уже был по-деревенски весьма любопытен, для своей поры очень смышлен, хотя многого все-таки не понимал. Но видел и слышал, а еще больше запоминал, как плевались проходившие мимо уцелевшие старики, одетые во все черное старухи, посылая во весь голос проклятия бесстыдникам. О том, что прилюдно справлять нужду было неприлично, как это делали чужие дяди, я уж точно знал.
Естественно, тема вражеского общественного туалета меньше занимала взрослых, в отличие от меня. Но все равно из обрывков услышанных мною разговоров родителей с хозяевами дома я усвоил, что главное дело было не в немецкой бережливости, аккуратности или совестливости. Фрицам просто-напросто за каждым кустом, а уж тем более в любом укромном месте виделись партизаны. Потому и кучковались они охотно даже по таким скрытным от постороннего глаза, в деревенском понимании, естественным надобностям, переборов заметную неприязнь друг к другу: немцев к мадьярам, румынам, чехословакам, итальянцам и наоборот...
Между тем, время шло. Село Скупая Потудань, в которое оккупанты к осени нас перегнали из Мастюгино, кроме всего непредсказуемо опасного для наших жизней, запомнилось ещё и тем, что один за другим из-за бессолья начали шататься и вываливаться у меня молочные зубы. Некоторые мои земляки-ровесники на всю оставшуюся жизнь начисто лишились и основных зубов. Меня же от напасти такой спасла мама, обманом и силой, под дикий мой рёв, смазывая дёсны раствором медного купороса...
Позже в недавнем глубоком тылу, в селе Уколово, мы расположились двумя семьями в брошенной хозяевами и немцами большой хате. От хозяев нам досталась огромная не остывшая русская печь, а от немцев роскошная рождественская ёлка, убранная до селе невиданными нами чужеземными побрякушками. Видно, так приперло немцев, что они, к радости всей детворы, не разобрали эту красавицу.
В то же самое время все чаще мы становились свидетелями того, как хвалёный немецкий порядок перерастал в полную свою противоположность. Внезапно выкуриваемые нашими войсками из тёплых блиндажей и деревенских хат на мороз и ветер немцы, мадьяры, итальянцы представляли собой очень жалкое зрелище. Подобных сцен отступления фашистов я не видел позже ни в кино, ни в документальных кадрах военной хроники пленения иных немцев под Сталинградом. Понятное дело, события, очевидцами которых мы стали, были не столь масштабные, однако, являлись не менее, если не более эффектными зрелищно. Всего-то несколько месяцев назад, прошлым летом, солдаты Гитлера казались такими бесстрашными, стремительными, непобедимыми; все загорелые, белозубые, с закатанными рукавами гимнастёрок, горланящие свои песни в бесконечных колоннах огромных машин...
Теперь их не узнать. Толпами и по одному они молчаливо откатывались волна за волной в обратную сторону. На всех на них, без исключения, поверх легких шинелей были накручены-наверчены награбленные одеяла, кофты всех размеров и цветов, нанизаны друг на друга штаны. На ногах же, сверху ботинок, ерзац-валенки — плетеные из соломы калоши. И еще, такая, никем не отмеченная и не показанная в кинохронике деталь: на поясе у большинства вражеских солдат висели голубенькие эмалированные печки, по размерам и форме копирующие изогнутые солдатские котелки, заполненные, как мышиным пометом, специальным топливом. Задвижкой регулировалась подача воздуха через отверстия. При интенсивном движении владельца печки можно было поддерживать горение и получать какое-никакое тепло, согревающее живот и руки. Сейчас же ни о какой скорости передвижения и речи не могло быть, окоченевшие вояки еле переволакивали ноги, опираясь при этом на винтовки, как на лыжные палки. Кто знал тогда, что это докатились и до нас волны Сталинградской битвы и если над Скупой Потуданью ночами У-2 иногда разбрасывали листовки (я был свидетелем, как одну из них мой грамотный старший брат перечитывал в который раз шмыркающим носами взрослым: «Дорогие братья и сестры! Скоро мы освободим вас от немецко-фашистского ига ...»). В Уколово «кукурузники» с фронтовыми новостями просто не могли долететь. Так вот, братьев, как и многих их товарищей, наученных и выращиваемых военной улицей, не удержать бывало в хате. Они прямо-таки охотились за отстающими и бредущими отдельно чужими солдатами; неожиданно налетая на них сзади, сбивали с ног, отбрасывая прочь или забирая винтовку. И пока солдат каракатицей барахтался в сугробе, ребята успевали обшарить сумки, футляры для противогазов, карманы; иногда находили в них конфеты, шоколад, баночки консервов...
Частенько бывало и такое: один, а то и несколько мадьяров заваливались с мороза к нам в хату. Да, за эти несколько месяцев их лексикон русского не только заметно пополнился, но и зазвучал с иной, плаксивой интонацией! Вместо беспрекословного: «Шнель, шнель; матка, яйки, млеко, хлеб!» Слышалось теперь плаксивое: «Гитлер капут! Сталин карашо! Рус Иван карашо!» и т.п. А ведь у меня к тому времени еще не улетучились из головы частушки, которые оккупанты в Скупой Потудани были готовы прокручивать на патефоне и днем и ночью:
Сталин в музыку играет,
Тимошенко — гопака.
Всю Россию проиграли
Два советских дурака...
Теперь уж не так, не с той бесцеремонностью, вконец продрогшие фрицы усаживались так близко к горящей и горячей печи, что готовы были влезть в неё целиком, засунув туда же свои вонючие (этот стойкий специфический запах вражеских солдат тоже долго не выветривался) рубахи, кальсоны, шарфы, кишмя кишевшие насекомыми. Опять же, ни взрослые, ни дети подобного не видели. Чувствовалось, что женщинам было жалко этих бедолаг, почему-то жалел по-детски их и я. Но только не Алексей, у которого так свежа была на них обида: ему и его приятелю Ване в Скупой Потудани, приветливо подозвав: «Ком, ком!» — мадьяр неожиданно врезал в челюсти кулачищем, а потом схватился за кобуру... Брат тогда долго ходил с распухшим подбородком и еле ворочал языком. Однако в теплой хате незваные гости долго не засиживались. Еще бы, буквально по пятам их настигали красноармейцы-лыжники. Наших тоже заметно изменило время, но в лучшую сторону. Да, они были явно измучены непрерывными боями, преследованием врага, но теперь эти солдаты восхищали своей формой и выправкой: все в полушубках, ватных брюках, румянощекие. Нашей радости, пусть со слезами на глазах, не было конца...
Много лет спустя я возмущался, как немецкие, чешские, венгерские, а за ними наши фото-, теле-, просто журналисты отыскивали лужи с нефтью, мазутом в оставляемых советскими войсками в местах дислокации, живописали о клопах и тараканах в квартирах и казармах военных на территории Венгрии, Чехии, бывшей ГДР. Хотелось кричать: «Господа хорошие! Как коротка ваша память! Да загляните лишь в одно 1-е Сторожевое: вы легко отыщите и снимете то, что и в наши дни все еще напоминает о чудовищном нашествии ваших дедов, отцов. Это и могилы (прямо в палисадниках под окнами хат, на огородах, у околицы села) неповинных ни в чем гражданских людей, лишь подозреваемых в симпатиях к партизанам; это сотни погибших на минах, снарядах детей и подростков, а еще больше безруких, безногих, слепых, мальчишек, изувеченных не без косвенной помощи ваших родственников, соотечественников».
А как же, спросите, сложилась судьба соседской девочки Наташи? Той самой, которую покусала немецкая овчарка по команде забавлявшегося фашистского изверга. К сожалению, никак! Бедняге так и не удалось избавиться от навязчивого психологического страха, и она, став взрослой девушкой, отмучилась в лечебнице для душевнобольных…
Наш отец, Павел Ефимович, вернулся живым и невредимым из Заполярья, где он воевал с финнами. Но старший брат, не воюя ни с кем, остался без глаза, стреляя с приятелем одновременно из ствола в ствол трофейных винтовок. Красивый, музыкально одаренный, прекрасно рисующий, из-за увечья он так и не нашел свое место в жизни. Алексей, более осторожный и послушный, уцелел. Я же в голодном 1946 году тоже был ранен. На берегу Дона я жарил рыбу в сторонке от других играющих мальчишек. Жарил рыбу — это, конечно, слишком преувеличено. Скорее одну-единственную рыбку, пойманную мною же в реке, и всего-то размером в половину моей тогдашней ладошки. Уже изжарившуюся, совсем готовую, дразняще пахнущую, но так и не попавшую в мой размечтавшийся рот... Мой товарищ, по кличке Фурей (Шурик, Саша) по ребячьей дурости, не задумываясь о последствиях, бросил в костер часть противопехотной венгерской гранаты, но со взрывателем. Этот остаток гранаты взорвался; крупным осколком ранило меня в колено, мелкими изрешетило пальцы левой руки. Глаза, к счастью и на удивление, остались целыми. Раны, сейчас, много лет спустя, дают о себе знать, особенно в непогоду.
Взрывы гремели до 1993 года (времени моего последнего приезда в Сторожевое). Мое село оказалось не просто линией обороны, но и важным стратегическим плацдармом, с которого началось наступление частей Красной армии в 1942—1943 годах, оно переходило несколько раз из рук в руки противоборствующих сторон. (Вот здесь как раз уместно напомнить о том, что до настоящего времени ни по количеству жилых построек, ни по количеству жителей наше село так и не достигло довоенного уровня: не стало строителей, мастеров, просто мужчин — война поглотила большинство из них). Потому прилегающие к нему поля, особенно с востока, были загромождены подбитыми танками, к сожалению, больше нашими. В сельских садах остались тогда фашистские орудия, бившие по нашим танкам и наступающим солдатам. Земля и сверху и в глубине на много метров и на долгие годы оказалась нафаршированной минами, снарядами, иными взрывоопасными штучками. Я бы и сейчас, к слову, смог точно указать саперам, где в нашем саду были закопаны в землянке минометные снаряды. Сколько было оставлено немцами там и сям до сих пор не зарастающих и не затягивающихся землей воронок, окопов, блиндажей, нескончаемо длинных траншей; вырубленных в вековом мелу дотов, неприступно господствующих над Доном, над линией обороны Красной армии... Дорогой ценой далось красноармейцам освобождение Сторожевого и подступов к нему. Много полегло защитников Отечества самых разных национальностей со всех уголков бывшего Союза. Так, в семи километрах южнее Сторожевого в селе Селявное установлен памятник Герою Советского Союза Чолпонбаю Тулебердиеву, воину-киргизу, закрывшему своим телом амбразуру вражеского дзота, из которой по одиннадцати красноармейцам 160-ой дивизии, переправлявшихся вплавь через довольно широкий и полноводный в тех местах Дон, начал бить вражеский пулемет. Это была, очевидно, одна из дерзких, но тогда безуспешных попыток красноармейцев во что бы то ни стало вернуть утерянную выгодную высоту, сплошь скрытую смешанным лесом. И вполне возможно, что событие это произошло как раз в то время (6.08.1942 г.), когда оккупанты выгоняли нас из родных домов. Еще надо уточнить, что подвиг свой Чолпонбай совершил намного раньше Александра Матросова. Но об этом я узнаю опять-таки много лет спустя в школе и университете, когда земляки Тулебердиева станут приезжать в село Селявное и об этом будут рассказывать сторожевские учителя и селявенские школьники, студенты.
Давно нет в живых бабушки, Марии Степановны, пожалуй, одной из ярких и главных героинь моих воспоминаний (так, в самые первые дни оккупации она часто и безоглядно вступала в отчаянные стычки с вооруженными мадьярами, которые, врываясь в наш дом, первым делом кидались на ароматные запахи к печи, в которой всегда что-то варилось или пеклось. Эта маленькая и хрупкая женщина с криком: «Пан, пан, я сама, сама!» — смело расталкивала незваных гостей, во всю лопочущих по-своему, уже отдирающих полусырой хлеб от сковородок и пожирающих его горячим. Бабушке иногда удавалось при помощи столь внезапного стратегического маневра загрести кочергой в золу, укрыть чугунками коврижку-другую для нас, еще более голодных и дорогих ей внуков. Всякий раз после очередного визита чужестранцев мы пытались комментировать случившееся, посмеяться — не получалось: сказывалось нервное потрясение. Бабушкой гордились, восхищались... тоже молча). Нет отца, мамы и братьев. С каждым годом уходят и уходят из жизни другие свидетели той жестокой войны. Мне за семьдесят. Но память по-прежнему явственно воспроизводит эпизоды и картины того лихолетья, участником которых довелось быть. И можно ли, скажите, пожалуйста, простить гитлеровцев, лишивших и изуродовавших жизни миллионов людей?
Видимо, нет... Если до сих пор идут громкие судебные процессы возмездия над уцелевшими (пусть даже совсем одряхлевшими) нацистами и их рьяными пособниками...